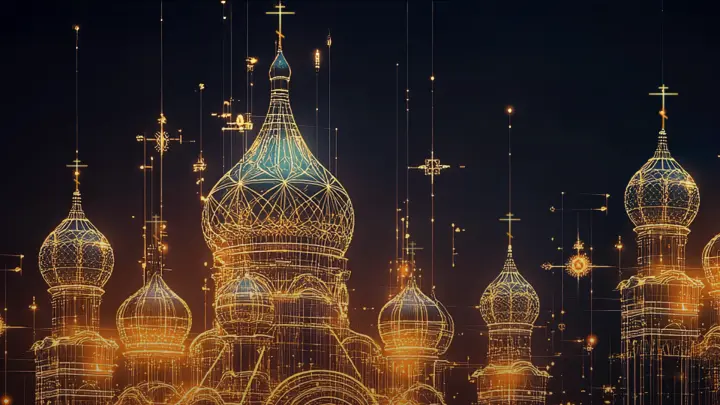Пост-икона в мире вместоискусства
Обращение к теме священного для двигателей коммерческого «современного искусства» – лишь очередной маркетинговый ход. Выставка в ГУМе это наглядно показала
Особенность объекта современного искусства, размещённого в общественном пространстве, состоит в том, что, если он не перегораживает дорогу, то его никто не замечает, принимая то за строительный мусор, то за навязчивый рекламный плакат или неудавшийся стрит-арт.
Так вышло и с арт-объектами выставки современного искусства «ГУМ-Red-Line», которая вместе с одноимённой галереей открылась в ГУМе аж 18 апреля. Присутствовали множество звёзд полу-, четверть- и невзвидишьсвета, вроде Ксении Собчак, фотографировались на фоне насквозь третичных работ вылинявшего от частого употребления поп-арта. Покупатели неделями ходили вокруг арт-объектов, не обращая на них ни малейшего внимания.
Музейная неделя в Москве: Как эффективно спланировать свой культурный досуг
Но работы известного и неплохо монетизируемого поп-артиста Гоши Острецова внезапно стали резонансными. Он создал триптих, посвящённый, по его собственным словам, «чуду семьи», и деревянную скульптуру «хранительница космотонов», в которых представители православной общественности увидели недолжное, если не сказать оскорбительное использование иконографии Пресвятой Богородицы.
И в самом деле, в левой части триптиха изображение с нимбом поразительно напоминает изображения Девы Марии, характерные, правда, не для православной, а для католической иконографии. Впрочем, и в православной иконографии есть высокопочитаемая икона «Радуйся, Невесто Неневестная», любимая преподобным Серафимом Саровским. Это подозрительно похожее на священное изображение как бы вырастает из некоей, по всей видимости, молекулярной структуры.
 Художник Гоша Острецов . Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Художник Гоша Острецов . Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Изображение и вызвало смущение и недовольство многих православных, когда его в выставочной суете наконец-то заметили. Нельзя сказать, что это какое-то бесстыжее кощунство в духе памятной выставки «Осторожно религия», хотя Острецов тоже когда-то вышел из гельмановского гнезда. Сам автор Острецов говорит о себе в интервью как о православном, прислуживает в храме, изучал теологию, так что, наверное, не имел в виду, в своем субъективном представлении, ничего «такого».
Киновед Ирина Павлова: «Государственный запрос в искусстве для меня – загадка»
И всё-таки некоторые православные почувствовали себя задетыми. Причём многие не могут до конца отрефлексировать причину своего неудовольствия, хотя, если вдуматься – она очевидна.
Во-первых, любые попытки использовать святыню в совмещении с довольно третичным поп-артом задевают потому, что не такой кистью следует касаться священного. Пожалуй, любое вписывание хотя бы отдалённых отсылок к священным изображениям в поп-арт контекст оскорбительно не только для веры, но и для самого искусства.
Во-вторых, сама идеология представленного триптиха напрягает, даже если мы её в полной мере не осознаём. А искусство для того и искусство, чтобы вызвать реакцию на свои смыслы даже помимо чёткого осознания. Картина с предполагаемой Богоматерью, слитой с молекулой, отдаёт откровенным пантеизмом – мол, Бог во всём, точнее, божественная женственность (в духе еретической софиологии отцов Булгакова и Флоренского). Центральная часть, «Семейный автопортрет», вновь представляет поклонение художника с детьми женскому образу, довольно вульгарному и скорее языческому (правда, всё равно с нимбом), некоей Вечной Женственности. Наконец, в третьей части, называемой «Программа человеческой культуры», в некую ДНК сворачивается сюжет, где Анна и Мария с полотна Леонардо обращаются к Иисусу, обнимающему ягненка – со времен «Жертвоприношения Авраама» символ его будущих страданий. Это, пожалуй, самая христианская из картин триптиха – страдание Богочеловека зашито в ДНК культуры.
 Фото: agsandrew/ Shutterstock.com
Фото: agsandrew/ Shutterstock.com
Итак, что мы видим по совокупности? Своего рода поп-артовый манифест метафизического феминизма. Мол, в основе всего сущего лежит женское. Женское пронизывает собой всё. Женскому следует поклоняться мужчинам. Женское – это и есть Бог. Если художник и «видит в семье двигатель вселенной», как сказано в подводке, то это, по сути, неоязычески-матриархальная семья. Богу Отцу тут просто нет места. И православное сознание, которое не может не быть патриархальным, обязано быть таковым, улавливает на ультразвуковых частотах угрозу фундаменту миропорядка и семейного порядка, сводимым тут, по сути, к языческому культу «Великой матери». Так что негативная реакция вполне естественна – это и впрямь кощунство, философски-богословское кощунство, даже если никто не хотел тут кощунства «концептуального».
"Искупление": Современное искусство в поисках Евангельской Истины
Разумеется, никто не будет размахивать топорами и опрокидывать работы. Безумные времена энтеовщины давно и довольно позорно (учитывая дальнейшую карьеру самого Энтео) закончились. Скорее всего, шумиха даже чуть улучшит продажи работ Острецова где-нибудь на «Винзаводе». Перед нами скорее не скандал, а симптом.
С одной стороны, современный арт-процесс очень хочет «всасывать» в себя священное и перерабатывать его, улучшая свою узнаваемость и продаваемость. Чтобы и оно поработало «банкой кока-колы» на фабрике бессмыслиц поп-арта. И тут невозможно только глумиться и травестировать, как во времена гельмановских непристойностей. Нет, охота, чтобы священное своим присутствием как бы «подкрепляло» и отчасти освящало всё остальное. Нужен удобный фон для фотографирования К. Собчак, которая сегодня охотно снимется в образе «весёлой монашки», а завтра примет эффектную позу где-нибудь на фоне «феминистской Мадонны».
С другой стороны, ничто так не претит современному вместоискусству, как реальное обращение к священному. Причём вне зависимости от современности избранной художественной техники – вместоискусству претит сам смысл, и прежде всего именно смысл и серьёзное к нему отношение.
Весьма характерно, что в те самые дни, когда звёзды позировали, покупатели сновали мимо избыточно дорогой площадки в ГУМе, а православные активисты возмущались поп-ересью Острецова, в Санкт-Петербурге в Анненкирхе (ул. Кирочная, 8 в) без всякой шумихи и помпы проходит уже во второй раз выставка «После иконы». Христианские современные художники (преимущественно православные) взяли смыслы и узнаваемые элементы иконы и поместили их в новую, непредсказуемую художественную технику и среду, применив, зачастую, прежде не используемые в христианском искусстве техники. И получилось неожиданное и повергающее в трепет душу художественное явление.
Это, в большинстве своем, не иконы, хотя иконы более-менее классического письма, канонические, тоже есть. Например, они включены в композицию работ Сергея Малютина «Киоты», где современные арт-объекты оказываются киотами для икон византийского письма. Но чаще всего перед нами попытка своего рода остранения и переосмысления иконических элементов. Например «руки» Кэти Меладзе – одна благословляющая, другая распятая и пронзённая гвоздями. Сами по себе эти работы, конечно, не иконы, но возводят нас к тому смыслу, который за иконой и стоит.
Проект «После иконы» придумал несколько лет назад Антон Беликов – фигура яркая, провокационная, спорная. Настоящий бунтарь – и прекрасный знаток иконографии, человек, полный вселенского духа, по зову сердца отправившийся со словом и творчеством поддерживать русских Донбасса, а с другой стороны – не давший омрачить Москву пропаганде «АТО» (его протестная акция на бандеровской выставке в здании Сахаровского музея прибавила ему славы).
В «После иконы» объединяются самые разные техники – традиционная живопись и графика, мозаика и стрит-арт, инсталляция и скульптура. Берутся сюжеты традиционной православной иконографии и западной христианской живописи или, напротив, христианскому содержанию находится место в далёких от него канонах, например, советского авангардистского плаката. Или, к примеру, две переносные фигуры Благовещения, выполненные самим Беликовым в абсолютно традиционной православной металлографии. Вдруг понимаешь, что Архангел Гавриил и Дева Мария могут, не теряя своей святости, «зажить» на абсолютно любом фоне.
Труднее всего «открывается» Москва. Лишь буквально на пару дней «Иконе после иконы» удалось зайти под своды Зала церковных соборов Храма Христа Спасителя, и снова в столице никому не до того. В Городе на Неве рады православной по своей символике и энергетике выставке в основном лютеране в Анненкирхе. Но всё-таки нельзя сказать, что православное общество к расширению рамок церковного искусства глухо – есть отклики, интерес, споры, поддержка.
А вот где полная и абсолютная немота, настоящий заговор молчания, так это как раз в арт-среде, для которой такого рода искусства попросту не существует. Почему? Потому что это действительно искусство. Не «Тищенко». Потому что оно по-настоящему серьёзно. Для него святыня – если не ответ, то значимый вопрос, а не игровая бирюлька. Потому что оно не является функцией «арт-рынка» (хотя, наверное, многие из этих работ продаются, и они уж точно гораздо более понятное вложение на длительную перспективу – их несомненная художественная ценность лет через двести будет очевидна, чего о большей части поп-арта не скажешь).
И поэтому совершенно невозможно, увы, пока что представить выставку типа «После иконы» в ГУМе, хотя фасад этих почтенных торговых рядов и украшают восстановленные более полутора десятилетий назад иконы. А вот для начинки ГУМа, как и для большинства других коммерциализованных арт-пространств, остаются востребованными лишь попсовые феминистские фантазии на тему икон. Ещё бы, ведь рядом с ними так удобно фотографировать звёзд полусвета.